Обратный инжиниринг: советская магистраль
Подготовил Олег Иванов
74-летний советский период оставил огромный след в истории нашей страны и всего мира. Кто-то воспринимает его как трагедию XX века, кто-то – как время великих свершений. Но все сходятся во мнении – во времена СССР промышленность развивалась быстрыми темпами. И не последнюю роль в этом сыграл обратный инжиниринг.
Борец за свободу
Март 1919 года. В России бушует кровопролитная Гражданская война. Белогвардейцы и войска Антанты отчаянно пытаются победить молодое советское государство. Недалеко от Одессы бригада Никифора Григорьева, входящая в состав 2-й Украинской Красной армии, атакует греко-французские части. Натиск красноармейцев был настолько ошеломляющим, что противник бежал в полном беспорядке, оставив около 100 пулеметов, четыре артиллерийских орудия, семь паровозов и пять эшелонов, бронепоезд и четыре танка Renault FT-17, поставленных одноименной французской фирмой.
Один из танков бойцы решили отправить Владимиру Ленину в качестве подарка к 1 мая. Тот предложил, чтобы Renault FT-17 проехал по Красной площади во время торжественного парада. Его идея была поддержана правительством, но выяснилось, что танк некомплектен и не может передвигаться своим ходом. Его пришлось поставить на хранение в гараж, а красноармейцев - попросить прислать еще один танк.
Он-то и прокатился по Красной площади 1 мая. Управлял им летчик Борис Россинский (прозванный "дедушкой русской авиации"), который вместе с двумя помощниками за ночь перед торжеством разобрался в принципах работы.
Он-то и прокатился по Красной площади 1 мая. Управлял им летчик Борис Россинский (прозванный "дедушкой русской авиации"), который вместе с двумя помощниками за ночь перед торжеством разобрался в принципах работы.
После парада Ленин подробнейшим образом расспросил Россинского и присутствовавших на торжестве военных о конструкции и эффективности танка. Их ответы сподвигли Ленина выступить с инициативой о разработке советских танков на основе Renault FT-17. В августе 1919 года Совет народных комиссаров и Совет военной промышленности назначили нижегородский завод "Красное Сормово" ответственным за их создание. Броню должен был поставлять Ижорский завод, вооружение - Путиловский, двигатели - завод АМО (будущий ЗИЛ).
Стоявший в гараже Renault FT-17 разобрали на части, загрузили их в три крытых вагона и в сентябре 1919 года отправили на "Красное Сормово" (прокатившийся по Красной площади экземпляр воевал на фронте).
"К нам на завод был прислан легкий танк Renault, захваченный в боях на Южном фронте. Вот, говорят, наш образец. Делайте. А "образец" этот больше походил на груду металла, чем на настоящий танк. В нём отсутствовали важнейшие узлы. Не было мотора, коробки передач, множества других ценных деталей. Но унывать было некогда. В два месяца нужно было изготовить техническую документацию", - вспоминал рабочий Иван Волков.
Для изучения танка и подготовки чертежей сформировали коллектив из числа инженеров "Красного Сормова" и Ижорского завода. В целях координации работы предприятий была сформирована специальная комиссия из числа сотрудников обоих заводов и двух французских конструкторов, ранее трудившихся на предприятиях Renault и сочувствовавших советской власти.
За сравнительно короткий срок, с октября по декабрь 1919 года, было выполнено примерно 130 чертежей узлов и агрегатов Renault FT-17, зачастую сразу воплощавшихся в металле.
За сравнительно короткий срок, с октября по декабрь 1919 года, было выполнено примерно 130 чертежей узлов и агрегатов Renault FT-17, зачастую сразу воплощавшихся в металле.
Трудностей хватало. Ижорский завод не прислал раскроенные листы, только прокат и его пришлось резать и кроить сотрудникам пушечного цеха "Красного Сормова", не имея специально инструмента. Не нашлось и предприятия, способного сделать шестерни для коробки передачи требуемого качества, их были вынуждены изготавливать в механическом цехе "Красного Сормова". Их качество оставляло желать лучшего, шестерни "давали клина" и ломали зубья. Для выхода из сложившегося положения дел шестерни "припиливали" вручную.
Постепенно дела пошли на лад, и в августе 1920 года из дизельного цеха "Красного Сормова" выехал пилотный танк, получивший название "Борец за свободу товарищ Ленин". Он почти полностью сохранил конструкцию французского оригинала. Экипаж включал в себя механика-водителя, сидевшего в передней части корпуса и управлявшего движением танка и стрелка, размещавшегося в башне, стоя на полу или сидя в брезентовой петле.
Преимуществом танка был хороший обзор местности и сравнительно небольшое "мертвое" пространство в направлении его хода. Катаные броневые листы легко выдерживали удары пуль. На танке стоял двигатель Fiat, производившийся на заводе АМО. Максимальная скорость достигала 8,5 километров в час, у прототипа - 7,8.
"Красное Сормово" произвело 15 танков - "Борец за свободу товарищ Ленин", "Парижская коммуна", "Карл Маркс", "Лев Троцкий", "Красная звезда", "Лейтенант Шмидт", "Пролетарий", "Свободная Россия", "Буря", "Керчь" и др. Они различались не только наименованиями, но и вооружением - на "Борце за свободу товарище Ленине" и "Парижской коммуне" стояла 37-милиметровая пушка, на остальных - в качестве довеска к ней 8-милиметровый пулемет.
Интересно, что сормовские танки называли "Русский Рено" или "Рено-русский". Все они поступили в автобронеотряды Красной Армии, однако в боевых действиях участие не принимали. Это выпало на долю их потомков - Т-34, громившего "Пантер", "Тигров" и "Фердинандов" на полях Великой Отечественной войны и Т-72 и Т-90, уничтожающих сегодня американские "Леопарды" на Украине словно медведи злобных шавок.
Интересно, что сормовские танки называли "Русский Рено" или "Рено-русский". Все они поступили в автобронеотряды Красной Армии, однако в боевых действиях участие не принимали. Это выпало на долю их потомков - Т-34, громившего "Пантер", "Тигров" и "Фердинандов" на полях Великой Отечественной войны и Т-72 и Т-90, уничтожающих сегодня американские "Леопарды" на Украине словно медведи злобных шавок.
Крылатый металл
Гражданская война близится к концу. Перед партией большевиков стоит цель - восстановить разрушенные экономику и промышленность. В подобных тяжелейших условиях в Центральном аэрогидродинамическом институте организована Комиссия по металлическому самолетостроению, в состав которой вошли конструктор Андрей Туполев, металлург Иван Сидорин, прочнист Георгий Озеров, пилот Евгений Погосский. Им предстоит разработать проект советского самолета из металла.
Такая цель выглядит абсурдом – люди лишены самого элементарного и кажется, что сейчас не до авиации. Несмотря на препятствия, инженеры начинают работать и быстро приходят к выводу: сталь не подойдет, слишком она тяжела, будущий самолет может вообще не взлететь.
Вместо стали Сидорин предлагает попробовать использовать какой-нибудь алюминиевый сплав. К тому времени он занимался изучением всех существовавших алюминиевых сплавов, особое внимание уделяя дюралюминию.
Вместо стали Сидорин предлагает попробовать использовать какой-нибудь алюминиевый сплав. К тому времени он занимался изучением всех существовавших алюминиевых сплавов, особое внимание уделяя дюралюминию.
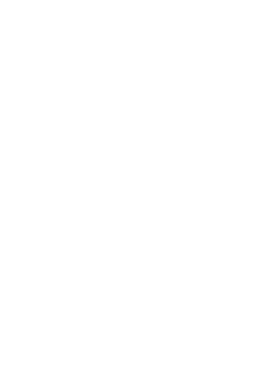
Иван Иванович Сидорин
Фото: wikimedia.org
Дюралюминий был разработан сотрудником немецкого металлургического предприятия Dürener Metallwerke Альфредом Вильмом. В 1903 году он обнаружил, что сплав алюминия с медью и магнием после закалки при 500 градусах и резкого охлаждения, находясь при комнатной температуре воздуха в течение нескольких дней, становится заметно прочнее без потери пластичности. В 1909 году Вильм запатентовал созданный им сплав и вскоре лицензию на его производство купила Dürener Metallwerke, выпустившая в свою очередь его на рынок под названием "дюралюминий" (в его нем, к слову сказать, помимо меди и магния содержался марганец).
Он быстро привлек внимание концерна Junkers, принявшегося использовать его для изготовления деталей самолетов. Первая мировая война наглядно показала преимущество дюралюминия перед фанерой, повсеместно применявшейся тогда в авиации. В ходе нее Junkers массово "клепал" алюминиевые, точнее дюралюминиевые самолеты.
Модели самолетов Junkers
Сидорину повезло - ему удалось получить фюзеляж трофейного самолета, выпущенного Junkers в 1918 году. Его компоненты - гладкие и гофрированные листы, профили и трубы подверглись химическому и металлографическому анализам. По их результатам был сделан вывод о необходимости коррекции состава дюралюминия за счет добавления в него никеля и изменения концентраций меди и марганца.
Эксперименты со сплавами проводились в литейной мастерской Московского высшего технического училища, потом их перенесли на Первый государственный медеобрабатывающий завод во владимирском поселке Кольчугино. В середине 1922 года был получен сплав, названный кольчугалюминием и ничем по свойствам не уставший дюралюминию. Именно из него и было решено построить первый советский металлический самолет.
Спустя год был налажен выпуск проката, гофра и профилей из кольчугалюминия, и в октябре 1923 года с Кадетского плаца в Москве в небо поднялся спроектированный Туполевым самолет АНТ-1 - его планер и гофрированная обшивка были сделаны из кольчугалюминия. За его штурвалом сидел Погосский.
На АНТ-1 было проведено несколько испытательных полетов, показавших неплохие результаты: он разгонялся до скорости 125 километров в час, поднимался на высоту 600 метров и мог пролететь 540 километров. Затем установленный на нем итальянский двигатель Anzani вышел из строя и АНТ-1 поставили на хранение в ангар.
В мае 1924 года взлетел его преемник АНТ-2, который несся еще быстрее – со скоростью до 169,7 километров в час, выше – до 3 километров и дальше – до 750 километров. АНТ-2, как и АНТ-1, был изготовлен в единственном экземпляре и в серию не пошел из-за отсутствия в России двигателей - на АНТ-2 стоял английский Bristol Lucifer, и наладить его массовые закупки не представлялось возможным.
Несмотря на это, кольчугалюминий стал важнейшим конструкционным материалом в отечественной авиации - он и поныне используется в производстве самолетов. Само название "кольчугалюминий" не прижилось и постепенно вышло из обихода и было заменено на "дюралюмин" или просто краткое обозначение Д1. Но это нисколько не умаляет труда советских инженеров - с кольчугалюминия в нашей стране началась эра алюминиевого авиастроения. Недаром же алюминий, называют "крылатым металлом".
Итальянские корни
Купеческая семья Рябушинских была очень известной в дореволюционной России. Ее основателями являлись Михаил Рябушинский и его сыновья Павел и Василий, сделавшие состояние на производстве текстиля и бумаги. Их потомки расширили бизнес, добавив к нему лесопилки и металлообрабатывающие предприятия, нефтепромыслы, собственный банк.
Яркими представителями клана Рябушинских в XX веке были братья Степан и Сергей. Мало того, что они активно развивали семейное дело, они еще увлекались искусством: Степан собрал внушительную коллекцию икон, Сергей занимался скульптурой.
В 1916 году они взялись за небывалое по тем временам дело - строительство первого в России автомобильного завода. Отечественых железных коней в нашей стране тогда уже выпускал Русско-Балтийский вагонный завод в Риге, но для него это было не главное направление производства.
Шедшая Первая мировая война наглядно показала необходимость перехода от использования лошадей к автомобильному транспорту - для машин не надо заготавливать сено, и они не устают. Поэтому в феврале 1916 года Военное министерство и торговый дом "Кузнецов, Рябушинские и К˚" подписали договор на сумму 27 млн рублей. По его условиям, Рябушинские должны были построить и запустить в Москве предприятие в октябре того же года. Общий объем поставки машин - 1,5 тыс. единиц, из них 10% - к марту 1917 года. На заводе должны были собираться 1,5-тонные итальянские грузовики Fiat 15 Ter.
Работа закипела. В августе 1916 год на юге Москвы заложили фундамент будущего предприятия и, казалось, через четыре месяце оно заработает. Увы, коллапс транспортной системы России, инфляция, трудности с получением иностранного оборудования не позволили провести его оснащение точно в срок. Его директор Дмитрий Бондарев по согласованию с акционерами пошел на беспрецедентный шаг - были закуплены у Fiat комплекты деталей автомобилей, и началась их сборка прямо на недостроенном до конца предприятии.
Его решение оказалось стратегически правильным, в 1917 году на заводе удалось собрать 432 грузовика. После Октябрьской революции предприятие было национализировано и сменивший Временное правительство Совет народных комиссаров озадачился его сохранением. Выход был найден в виде диверсификации - на завод стали поступать заказы на изготовление запасных частей для железнодорожных вагонов, выпуск керосиновых ламп, ремонт приходящих с фронта автомобилей. И попутно он выпускал Fiat 15 Ter. В 1918-м было собрано 779 штук, в 1919-м - 108. После в течение нескольких лет на нем исключительно ремонтировалось грузовики.
Завершение в России Гражданской войны потребовало организации массового выпуска автомобилей для мирных целей. Поэтому Совет труда и обороны выделил деньги на запуск их производства на заводе. К его подготовке приступили в январе 1924 года, была сформирована группа инженеров, возглавляемая опытным конструктором Владимиром Ципулиным. В ее распоряжении были 163 чертежа, предоставленных Fiat, и 513, нарисованных непосредственно на самом заводе. В его гараже стояли два эталонных образца Fiat 15 Ter.
На их базе был разработан грузовик АМО-Ф-15, отличавшийся от прототипа меньшим размером маховика двигателя, сниженной массой поршней и шатунов, увеличенной площадью радиатора, измененной формой капота и конструкцией сцепления, размещением бензобака под сидением водителя (у прототипа он крепился рядом с передним щитком), использование карбюратора "Зенит №42" вместо итальянского.
7 ноября 1924 года в ходе праздничной демонстрации по Красной площади Москвы проехало десять грузовиков АМО-Ф-15, три из них 25 ноября отправились в автопробег по маршруту Москва - Тверь - Вышний Волочек - Новгород - Ленинград - Луга - Витебск - Смоленск - Рославль - Москва. Машины показали отличную проходимость и надежность, а в марте 1925 года начался их массовый выпуск.
На шасси АМО-Ф-15 производились кареты скорой помощи, автобусы, фургоны для перевозки денег, автобусы. Всего его выпуск превысил 6 тыс. штук. Постепенно АМО-Ф-15 на дорогах Советского Союза сменили АМО-2 и ГАЗ-АА, основой которых послужили американские Dispatch и Ford.
Кстати, уважаемые читатели, вы не догадались, как каком предприятии в Москве выпускался АМО-Ф-15? Если не знаете, то подсказываем: на ЗИЛе, в то время называвшемся АМО.
Кстати, уважаемые читатели, вы не догадались, как каком предприятии в Москве выпускался АМО-Ф-15? Если не знаете, то подсказываем: на ЗИЛе, в то время называвшемся АМО.
Военные трофеи
Великая Отечественная война стала подлинной трагедией для нашей страны. И она же дала мощнейший импульс советской ракетной технике - про легендарные "Катюши" знает и стар, и млад. Полученные разведкой данные о производстве нацистами ракет "Фау-1" и "Фау-2", их применении для бомбардировок Великобритании показала необходимость интенсивной разработки отечественных баллистических ракет.
В Советском Союзе функционировал Государственный институт реактивной техники, но в феврале 1944 года было принято решение его ликвидировать и передать его имущество и сотрудников под наименованием НИИ-1 из ведения Наркомата тяжелой промышленности в состав Наркомата авиационной промышленности. Перед ним поставили цель - создавать эффективные ракеты.
Тут помогло письмо Уинстона Черчилля, направленное в июле 1944 года Иосифу Сталину. В нем британский премьер-министр попросил советского лидера помочь найти образцы немецких ракет "Фау-2": по данным английской разведки их испытания проводились в районе польского города Дебицы. Инженеры НИИ-1 отправились в Польшу. Им удалось обнаружить места пуска "Фау-2" и их обломки, однако, целых ракет найдено не было.
По мере наступления Красной армии, поиски "Фау" были перенесены на территорию Германии. И здесь нашим специалистам опять повезло - через два месяца после капитуляции Германии в зону советского контроля перешла Тюрингия. В ее горах находился секретный подземный завод Mittelwerke, занимавшийся сборкой и испытанием "Фау". Он был захвачен американскими войсками, которые по условиям раздела Германии были вынуждены передать его Красной армии.
Американцы постарались вывести с Mittelwerke все, что можно и советским инженерам достались компоненты ракет без технической документации. Им приходилось разыскивать детали "Фау" и чертежи в разных районах Германии, собирая информацию по крохам.
Американцы постарались вывести с Mittelwerke все, что можно и советским инженерам достались компоненты ракет без технической документации. Им приходилось разыскивать детали "Фау" и чертежи в разных районах Германии, собирая информацию по крохам.
Был организован НИИ-88, отдел № 3 которого возглавил Сергей Королев, институты Rabe, Hordhausen и Berlin, скомплектованные из немецких специалистов (и управляемые советскими руководителями). Министерство авиационной промышленности СССР предоставило НИИ-456 и опытный завод для разработки и тестирования ракетных двигателей, Министерство промышленности средств связи учредило НИИ-885 для создания систем управления ракетами.
Они должны были на базе имеющейся информации и узлов восстановить "Фау-2". Ответственность за успех и неудачи лежала целиком на Королеве. Работы шли интенсивными темпами, иначе быть не могло – на глазах разворачивалась холодная война между Советским Союзом и Западом.
Несколько слов о "Фау-2". Ее длина составляла 14 метров, диаметр корпуса – 1,6 метра, стартовая масса – 12,5 тонн. Она была оснащена двигателем, сжигавшим смесь этилового спирта и жидкого кислорода. Двигатель разгонял "Фау-2" до невиданной по тем временам скорости – 1,7 километра в секунду. Ракета несла до 830 килограмм взрывчатки.
Несколько слов о "Фау-2". Ее длина составляла 14 метров, диаметр корпуса – 1,6 метра, стартовая масса – 12,5 тонн. Она была оснащена двигателем, сжигавшим смесь этилового спирта и жидкого кислорода. Двигатель разгонял "Фау-2" до невиданной по тем временам скорости – 1,7 километра в секунду. Ракета несла до 830 килограмм взрывчатки.
Конечно, у нее были и недостатки. Процесс ее производства был сложным (в ее конструкции использовалась широкая гамма марок стали и сплавов цветных металлов), ракеты нередко взрывались в воздухе и часто не попадали в цели. Тем не менее Королев, его соратники и нанятые немецкие специалисты разобрали имевшиеся в их распоряжении детали "Фау-2", провели анализы их материалов, поняли, как их изготавливать, и стали делать точные копии "Фау-2". Уже осенью 1947 было проведено их 11 пусков.
На основе "Фау-2" была разработана отечественная баллистическая ракета Р-1. Ее длина составляла около 15 метров, стартовая масса – свыше 13 тонн, максимальная скорость – 1,5 километра в секунду. Хотя Р-1 имела конструктивно-компоновочную схему, аналогичную "Фау-2", она была гораздо надежнее ее. В октябре 1948 года стартовала в небо первая Р-1 и менее чем через месяц было проведено еще восемь пусков.
Р-1 стала родоначальницей целых семейств ракет, защищавших мирное небо нашей Родины, а в апреле 1961 года ее потомок 8К72К вывел на околоземную орбиту корабль "Восток-1" с первым космонавтом на борту. И весь мир услышал знаменитую фразу Юрия Гагарина: "Поехали!".
Наш ответ Трумэну
В июле 1945 года главы Советского Союза, Великобритании и США проводили напряженные переговоры по послевоенному устройству Германии, а по сути – всей Европы и мира. В самом их начале президент США Гарри Трумэн проинформировал председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина об успешном испытании американской атомной бомбы.
"Должен сказать Вам, что у нас есть оружие необычайно разрушительной силы", - заявил он, получив вежливый и холодный ответ: "Благодарю Вас".
"Должен сказать Вам, что у нас есть оружие необычайно разрушительной силы", - заявил он, получив вежливый и холодный ответ: "Благодарю Вас".
По всей видимости, Трумэн попытался напугать Сталина, но не вышло. Он и не подозревал, что советский лидер в курсе ведущейся в США разработки атомной бомбы и что в СССР реализуется схожий проект. Информацию об американских исследованиях в Советский Союза передавали, рискуя жизнями, Клаус Фукс, Урсула Кучинская и другие разведчики.
Помимо создания атомной бомбы, перед советскими инженерами стояла проблема по ее доставке до места назначения, и уже имелись определенные наработки: за три года до Потсдамской конференции заместитель наркома авиационной промышленности СССР Александр Яковлев поручил конструктору Андрею Туполеву разработать тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, не уступающего по характеристикам американскому В-29, прозванному "летающей крепостью". Точно такие же задачи были поставлены Василию Мясищеву и Иосифу Незвалю.
В 1944 году несколько B-29 совершили вынужденные посадки на дальневосточных аэродромах Советского Союза. Их экипажи были интернированы, самолеты взяты под охрану.
В мае 1945 года на совещании в Кремле Сталин, ознакомившийся с материалами о ходе работ над бомбардировщиками, свидетельствующих об отставании от намеченных графиков, предложил Туполеву создать точную копию "летающей крепости". Тот согласился, честно предупредив об отсутствии на советских заводах налаженного производства ряда сплавов и изделий.
"Значит, им нужно освоить эту продукцию, — сказал Сталин. — Иного пути у нас нет…", поставив чрезвычайно жесткий срок: к середине 1947 года должна быть готова отечественная "летающая крепость".
Назад пути не было, и Туполев велел свернуть все работы по разработке отечественного бомбардировщика и переключиться на широкомасштабное изучение В-29, прозябавших на Дальнем Востоке. Туда направили специалистов во главе с опытнейшим летчиком подполковником Соломоном Рейделем. После осмотра В-29 было решено трое из них перегнать в Москву.
Один по прибытии разобрали до мельчайших деталей, сделали анализы их материалов, провели точные взвешивания и обмеры, подготовили их чертежи (несколько десятков тысяч) и фотографии. На втором проводили тренировочные полеты, третий стоял на аэродроме как эталонный образец.
В процессе обратного инжиниринга В-29 лишний раз подтвердилось мнение Туполева о возможных трудностях с изготовлением деталей для советской "летающей крепости". Например, применявшийся в конструкции В-29 дюралюминиевый плоский прокат толщиной 1,6 миллиметров в Советском Союзе вообще не выпускался и пришлось вместо него использовать листы потолще, увеличивая подобным образом массу самолета. То же самое было с кабелями.
Бомбардировщики B-29 и Ту-4
Нажмите на изображение для увеличения
Нажмите на изображение для увеличения
В ходе копирования и проектирования приходилось применять дюймы, переводя их потом в миллиметры. Надо было разобраться, какой прибор или провод с чем связаны, сделать аналог системы "свой – чужой".
Для ускорения работ рассматривался вариант о приобретении в США колес шасси, свечей и подшипников, воздушных винтов и т.д. От него вскоре отказались – власти США вряд ли бы позволили их вывезти в СССР. Пришлось воспроизводить их из собственных материалов. Двигатель был изначально советский – поршневой АШ-73.
Для ускорения работ рассматривался вариант о приобретении в США колес шасси, свечей и подшипников, воздушных винтов и т.д. От него вскоре отказались – власти США вряд ли бы позволили их вывезти в СССР. Пришлось воспроизводить их из собственных материалов. Двигатель был изначально советский – поршневой АШ-73.
Несмотря на возникавшие сложности, они решались в оперативном порядке и работы шли вперед. 19 мая 1947 летчик Николай Рыбко поднял советскую "летающую крепость" в небо. По документам она носила шифр Б-4, сверху же было спущено указание назвать ее Ту-4 в знак уважения к организаторскому таланту Туполева: над созданием Ту-4 трудились 900 предприятий по всей стране.
3 августа того же года на воздушном параде в честь Дня авиации в небе над Тушинским аэродромом в Москве пролетела тройка Ту-4. Она произвела подлинный фурор у собравшихся на праздник людей. Мирные граждане вероятно и не подозревали для какой конкретно задачи предназначался Ту-4, военные наверняка поняли, что новые самолеты продемонстрированы неспроста.
Ту-4 не стал точной копией В-29. Он был потяжелее американского прототипа, не имел встроенных в крылья топливных баков и герметичного тоннеля, соединяющего носовую и центральные части бомбардировщика. Зато Ту-4 мог долететь до США и сбросить на нее атомную бомбу. Поэтому он был без промедления принят на вооружение и в 1951 году сбросил на Семипалатинском полигоне атомную бомбу, подтвердив свое назначение. Думается, Трумэн был не в восторге, если узнал про этот факт.
В рядах Вооруженных сил СССР Ту-4 эксплуатировался недолго: было понятно, что поршневые двигатели морально устарели. В 1953 году ему на смену пришел реактивный Ту-16, прослуживший полвека. И все-таки, разработка Ту-4 не была пустой затеей – он успешно стоял на страже нашей Родины.

© 1998-2023 ФГБУ "РЕДАКЦИЯ "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ"