Обратный инжиниринг: русский путь
Подготовил Олег Иванов
В разговорную речь россиян незаметно вошло словосочетание "обратный инжиниринг". Под ним понимается процесс снятия параметров с какого-либо изделия и создание на их основе его опытного образца для последующего запуска в массовое производство.
Интересно, что обратный инжиниринг не нов для России: история его применения насчитывает не одну сотню лет. В старых книгах удалось найти интересные о нем факты.
Интересно, что обратный инжиниринг не нов для России: история его применения насчитывает не одну сотню лет. В старых книгах удалось найти интересные о нем факты.
Тульский кузнец
В 1696 году царь Петр I, направляясь в Воронеж для подготовки Азовского похода, был проездом в Туле. В ней он планировал встретиться с местными кузнецами, ожидая заказать им изготовление партии алебард. На переговоры с Петром I пришел лишь один человек - Никита Антуфьев.
Царь, обратив внимание на его большой рост, предложил боярам сдать его в гренадеры в Преображенский полк. Антуфьев бросился к нему в ноги, умоляя помиловать: для его престарелой матери - он был ее единственным сыном.
Царь, обратив внимание на его большой рост, предложил боярам сдать его в гренадеры в Преображенский полк. Антуфьев бросился к нему в ноги, умоляя помиловать: для его престарелой матери - он был ее единственным сыном.
Петр I предложил ему сделку: Антуфьев сделает ему алебарды в обмен на освобождение от "почетной" воинской обязанности: "Я помилую тебя, если ты скуешь мне 300 алебард по сему образцу". Антуфьев пообещал изготовить их лучше оригинала и через месяц лично доставить алебарды в Воронеж.
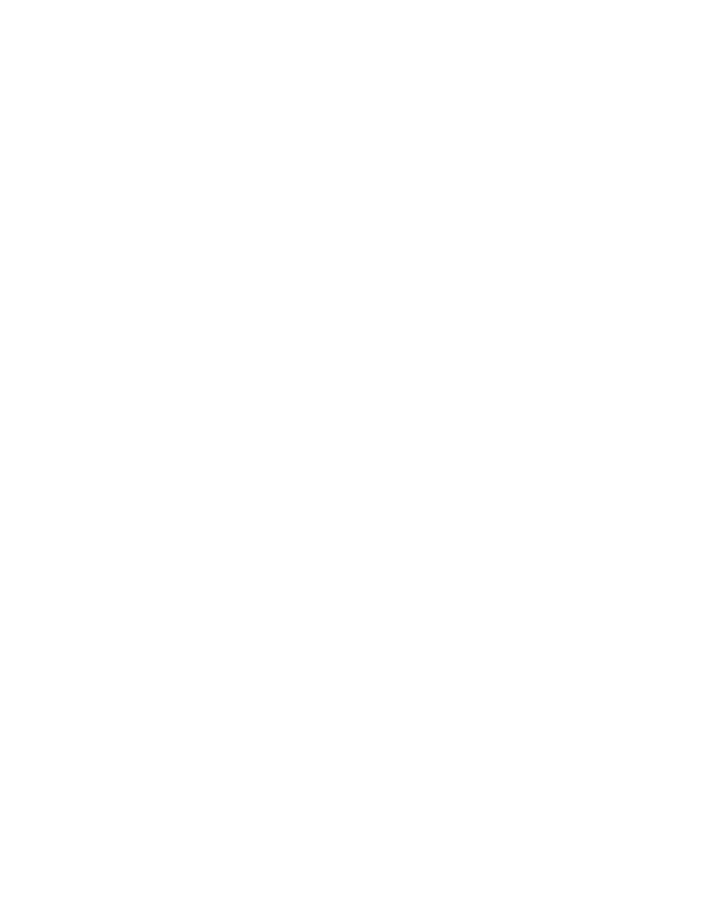
Репродукция картины "Никита Демидович Демидов". Фото: РИА Новости
Заказ царя был исполнен точно в срок. Петр I остался доволен работой Антуфьева и заплатил ему в три раза больше, чем было принято, подарив также немецкое сукно для кафтана и серебряный ковш.
По другой легенде, бывший вместе с Петром I вице-канцлер Петр Шафиров, прослышав про отличного тульского мастера Антуфьева, отдал ему на починку пистолет работы немецкого оружейника Кристофа Кухенрейтера. Спустя небольшое время Антуфьев принес Шафирову пистолет и честно признался, что купил его взамен оригинала, который он не смог исправить.
В придачу к нему он предоставил Шафирову лично сделанный им пистолет, ничем не отличимый от изделия Кухенрейтера. Шафирову они понравились настолько, что он рекомендовал Антуфьева Петру I, после чего повторяется история с алебардами, сукном и ковшом.
По другой легенде, бывший вместе с Петром I вице-канцлер Петр Шафиров, прослышав про отличного тульского мастера Антуфьева, отдал ему на починку пистолет работы немецкого оружейника Кристофа Кухенрейтера. Спустя небольшое время Антуфьев принес Шафирову пистолет и честно признался, что купил его взамен оригинала, который он не смог исправить.
В придачу к нему он предоставил Шафирову лично сделанный им пистолет, ничем не отличимый от изделия Кухенрейтера. Шафирову они понравились настолько, что он рекомендовал Антуфьева Петру I, после чего повторяется история с алебардами, сукном и ковшом.
Специалисты до сих пор спорят, была ли в реальности встреча Петра I и Антуфьева в Туле или нет. Какие-либо документальные источники, подтверждающие ее, в архивах не обнаружены. В то же время легенды рождаются не на пустом месте, и встреча могла быть: царь не чурался общения с ремесленниками и ценил талантливых мастеров.
Есть история, согласно которой Петр I заказал Антуфьеву изготовить несколько ружей на основе иностранного образца. Тот сделал шесть ружей и получил от Петра I 100 рублей и дозволение построить железоделательный завод в Туле. На нем было изготовлено 5 тыс. пудов (82 тонны) ядер для пушек.
Успешная деятельность Антуфьева обеспечила ему благосклонность царя, отдавшему ему в 1702-м казенные Верхотурские заводы и потребовав взамен поставлять в армию пушки, мортиры, гранаты, бомбы. В указе Петра I Антуфьев впервые назван Демидовым (по имени его отца), и с этой фамилией он навсегда вписал свое имя в историю России как пионер обратного инжиниринга.
Стеклянный рубин
Обратный инжиниринг применялся в 18 веке не только для нужд развития военно-промышленного комплекса, но и в сугубо мирных целях. Успешным примером его использования для производства бытовых товаров можно назвать разработки технологии получения золотого рубина – вида стекла, известного с античных времен.
Благодаря применению частиц золота в процессе его изготовления, стекло удавалось окрашивать в различные оттенки красного, малинового, пурпурного и розового цветов. Рецепты приготовления золотого рубина хранились в строгой тайне и периодически терялись. Поэтому время от времени стекловарам и алхимикам приходилось их восстанавливать либо разрабатывать с нуля.
Благодаря применению частиц золота в процессе его изготовления, стекло удавалось окрашивать в различные оттенки красного, малинового, пурпурного и розового цветов. Рецепты приготовления золотого рубина хранились в строгой тайне и периодически терялись. Поэтому время от времени стекловарам и алхимикам приходилось их восстанавливать либо разрабатывать с нуля.
В 17 веке такую задачу был вынужден решать известный немецкий алхимик Иоганн Кункель. Находясь на службе у курфюрста Браденбурга Фридриха Вильгельма I, он получил от него разрешение построить собственную стекольную фабрику. На ней и был налажен серийный выпуск золотого рубина. Имея монополию на его сбыт, Кункель быстро разбогател.
Накопленный опыт работы со стеклом, он описал в своей книге "Экспериментальное искусство стеклоделия или Совершенное искусство изготовления стекла" При этом точного рецепта варки золотого рубина в ней не раскрыто: автор предпочел утаить ряд важных деталей. Попытки получения золотого рубина в точном соответствии с ней сопровождались серьезными проблемами.
Накопленный опыт работы со стеклом, он описал в своей книге "Экспериментальное искусство стеклоделия или Совершенное искусство изготовления стекла" При этом точного рецепта варки золотого рубина в ней не раскрыто: автор предпочел утаить ряд важных деталей. Попытки получения золотого рубина в точном соответствии с ней сопровождались серьезными проблемами.
Решить столь непростую задачу сумел Михаил Ломоносов, явно знакомый с трактатом Кункеля. Сохранилась его запись на латинском языке, относимая к 1741-1743 годам, в которой он цитирует книгу Кункеля: "150 частей золота дают 1280 частей рубина".
В конспекте лекций немецкого химика, металлурга и минералога Иоганна Генкеля, составленного Дмитрием Виноградовым (учившегося у него вместе с Ломоносовым), есть фраза: "Возьми песку или кварцу от 2 до 3 частей, алкали 1 часть, минерального пурпура 4 грана, 1 лот стеклянного состава; смешай все вместе горазда и сплавь в доброй ветряной печке". В ходе проводимых опытов Ломоносов вполне мог пользоваться ими.
В конспекте лекций немецкого химика, металлурга и минералога Иоганна Генкеля, составленного Дмитрием Виноградовым (учившегося у него вместе с Ломоносовым), есть фраза: "Возьми песку или кварцу от 2 до 3 частей, алкали 1 часть, минерального пурпура 4 грана, 1 лот стеклянного состава; смешай все вместе горазда и сплавь в доброй ветряной печке". В ходе проводимых опытов Ломоносов вполне мог пользоваться ими.
Ломоносов применял венецианскую технологию варки стекла, базирующуюся на плавке фритты (смеси песка и флюсов) и добавок к ней. Фритта в стекольном деле использовалась двух видов – свинцовая, состоящая из сурика (ортоплюмбамата свинца) и желтого песка, и бессвинцовая, представляющая собой смесь поташа (карбоната калия) и белого песка и именно последнюю Ломоносов применил для изготовления золотого рубина, добавляя к ней кассиев пурпур, представляющий собой растворенное вцарской водке золото,и затем осажденное с помощью хлористого и хлорного олова.
Ломоносов использовал стандартное количество фритты – 15 грамм, варьируя объем кассиева пурпура в диапазоне 0,06-0,37 грамм. Иногда он заменял его либо мелкими частицами золота, либо растворял его в царской водке и осаждал щелоком. Также наряду с кассиевым пурпуром Ломоносов варил с фриттой пьемонтскую магнезию – двойную углекислую соль марганца и магния. Меняя состав и температуру расплава, он получал разные оттенки золотого рубина.
Эксперименты с золотым рубином проводились Ломоносовым в 1748-1752 годах в химической лаборатории, устроенной им у себя дома (руководство Академии наук, несмотря на неоднократные просьбы, отказалось ее организовывать). В 1757 году он продолжил опыты на построенной им Усть-Рудицкой фабрике, где было налажено производство прозрачных и цветных стекол в промышленных масштабах (по меркам 18 века, конечно же).
Помимо золотого рубина, известным достижением Ломоносова является раскрытие технологии изготовления византийской смальты – непрозрачного стекла для мозаики. Ее он видел в соборе святой Софии в Киеве и на мозаичной картине, привезенной в 1746 году в Россию из Италии. Проведя в течение трех лет более 4 тыс. опытов, Ломоносов смог в 1752 году из полученной им смальты набрать икону Божьем Матери. Ее он подарил императрице Елизавете Петровне на именины.
Потом были изготовлены и иные мозаичные картины – образа Спаса Нерукотворного и апостола Петра, портреты Александра Невского и Петра I, знаменитая баталия "Полтавская битва", погрудный профиль Екатерины II.
Потом были изготовлены и иные мозаичные картины – образа Спаса Нерукотворного и апостола Петра, портреты Александра Невского и Петра I, знаменитая баталия "Полтавская битва", погрудный профиль Екатерины II.
Китайский фарфор из Мейсена
Вышеупомянутый Дмитрий Виноградов сумел решить не менее трудную задачу, чем его сокурсник Михаил Ломоносов: он разгадал секрет приготовления порцелана – так в 18 веке в Европе называли белый фарфор. В нее он попал из Китая в 17 веке на кораблях Голландской Ост-Индской компании, наладившей с ним торговлю широким спектром экзотических товаров. Стоил фарфор очень дорого, и изделия из него ценились на вес золота, приведя к повальному увлечению им.
Естественно, в Европе попытались понять, каким образом его можно изготавливать. Мастера из различных стран проводили многочисленные опыты, закончившиеся безрезультатно. Удача улыбнулась немецкому алхимику Иоганну Беттгеру, сумевшему в 1708 году получить фарфор, не уступавший по белизне китайскому и превосходивший его по качеству.
Естественно, в Европе попытались понять, каким образом его можно изготавливать. Мастера из различных стран проводили многочисленные опыты, закончившиеся безрезультатно. Удача улыбнулась немецкому алхимику Иоганну Беттгеру, сумевшему в 1708 году получить фарфор, не уступавший по белизне китайскому и превосходивший его по качеству.
По иронии судьбы он с 1701 года пребывал в заключении за невыполнение заказа от курфюрста Саксонии (и по совместительству короля Польши) Августа Сильного – Беттгер взялся организовать выпуск из ртути золота с помощью философского камня.
Его успех сподвиг Августа Сильного на выделение финансирования на закладку в 1710 году мануфактуры по производству фарфора на территории крепости Альбрехтсбург, расположенной в городе Мейсене. Отсюда его стали называть мейсенским фарфором. Сам же Беттгер продолжал быть в заключении до 1714 года, и, даже обретя свободу, находился под наблюдением – Август Сильный опасался утраты секрета приготовления фарфора, грозившего потерей ему монополии на производство.
Его успех сподвиг Августа Сильного на выделение финансирования на закладку в 1710 году мануфактуры по производству фарфора на территории крепости Альбрехтсбург, расположенной в городе Мейсене. Отсюда его стали называть мейсенским фарфором. Сам же Беттгер продолжал быть в заключении до 1714 года, и, даже обретя свободу, находился под наблюдением – Август Сильный опасался утраты секрета приготовления фарфора, грозившего потерей ему монополии на производство.
Ему было чего опасаться – Петр I хотело наладить выпуск в России и специально отправлял агентов в Саксонию, Голландию и Китай, поручая им закупать фарфор и заодно выведать технологию его изготовления. Он поощрял выпуск посуды мастеров из подмосковного села Гжель, добывавших для своей работы белую глину. Она неплохо продавалась, хотя и уступала по цене китайскому и мейсенскому фарфору.
Вслед за Петром I его дочь Елизавета, взойдя на престол, страстно желала иметь собственный фарфор. По ее распоряжению в Россию был приглашен Кристоф Гунгер, ранее работавший с Беттгером. Его определили на строящуюся в 10 километрах от Санкт-Петербурга Невскую порцелиновую мануфактуру (ныне – Императорский фарфоровый завод), определив к нему в помощники Дмитрия Виноградова.
Гунгер никаких результатов не добился, ничему Виноградова не учил, умудрившись настроить всех и вся против себя. В конце концов управляющий мануфактурой барон Иван Черкасов уволил его, и фарфором стал заниматься Виноградов.
Вслед за Петром I его дочь Елизавета, взойдя на престол, страстно желала иметь собственный фарфор. По ее распоряжению в Россию был приглашен Кристоф Гунгер, ранее работавший с Беттгером. Его определили на строящуюся в 10 километрах от Санкт-Петербурга Невскую порцелиновую мануфактуру (ныне – Императорский фарфоровый завод), определив к нему в помощники Дмитрия Виноградова.
Гунгер никаких результатов не добился, ничему Виноградова не учил, умудрившись настроить всех и вся против себя. В конце концов управляющий мануфактурой барон Иван Черкасов уволил его, и фарфором стал заниматься Виноградов.
Он творчески подошел к делу, в отличие от Гунгера, применявшего рецепты, учитывающие российские условия. Виноградов последовательно ставил опыты с разным сырьем и сортами древесины (как топлива), варьируя температуру обжига. В итоге в 1746 году он сумел получить удовлетворительный по качеству фарфор, используя олонецкий кварц, алебастр (природный гипс) и глину из Гжели (Виноградов не поленился прокатиться в нее), обжигая их при температуре 600-900 градусов. После изделия из фарфора покрывались глазурью и снова обжигались – теперь уже при температуре 1,4 тыс. градусов.
Ключевая проблема, которую пришлось преодолеть Виноградову, состояла в предохранении белой фарфоровой массы от продуктов горения (что, собственно, и скрывали китайские и немецкие мастера). И, разумеется, надо было обеспечить секретность рецептуры, поэтому данные экспериментов Виноградов зашифровывал, скрывая их от помощников. Мельницы для подготовки шихты и печи для их обжига он сконструировал сам.
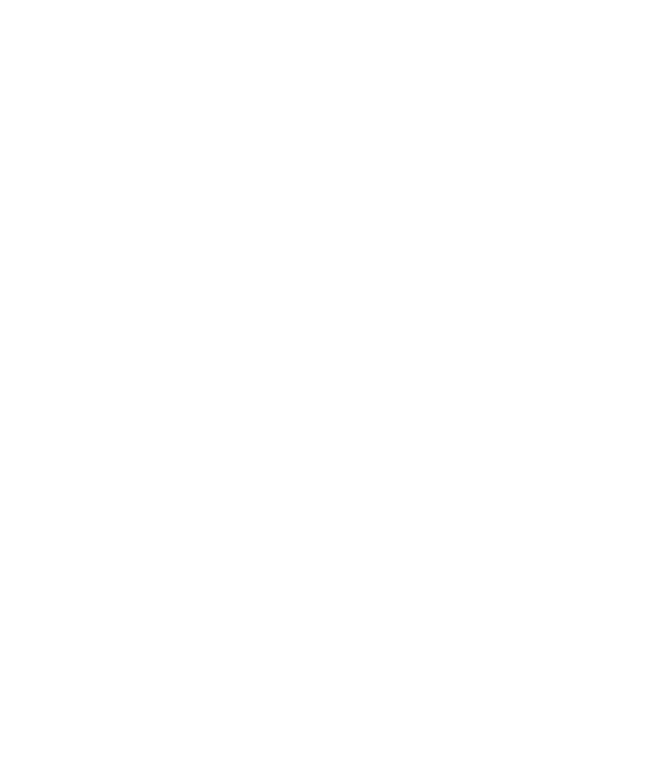
Барон И.А. Черкасов. Фото: wikimedia.org
Из разработанного им белого фарфора Виноградов делал табакерки и курительные трубки, популярные при дворе Елизаветы Петровны. Из него же он создал для императрицы посудный сервиз. Невская порцелиновая мануфактура набирала обороты, заказы шли потоком, однако самому Виноградову его тяжелейший труд не принес богатства.
По указаниям Черкасова, за малейшую провинность Виноградова штрафовали и лишали жалованья, били плетьми, приковывали цепью к стене в его комнате. Подобное "деликатное" отношение привело к смерти ученого в сравнительно молодом возрасте. От него осталось две работы о фарфоре – первые в Европе научные труды, посвященные керамике, и прославленный на весь мир русский фарфор.
По указаниям Черкасова, за малейшую провинность Виноградова штрафовали и лишали жалованья, били плетьми, приковывали цепью к стене в его комнате. Подобное "деликатное" отношение привело к смерти ученого в сравнительно молодом возрасте. От него осталось две работы о фарфоре – первые в Европе научные труды, посвященные керамике, и прославленный на весь мир русский фарфор.
Столичный промышленник
Без снарядов пушки молчат. И тут нельзя не вспомнить Николая Путилова, который известен по названному в его честь одноименному металлургическому заводу в Санкт-Петербурге.
Путилов прославился беспрецедентной по сложности и успеху организацией массового производства боевых кораблей во время Крымской войны. В 1854 году англо-французский флот вошел в Финский залив и стал "наводить порядок" - осадил крепости Бомасунд и Гангут, попытался захватить Кронштадт принялся обстреливать населенные пункты в Финляндии, входившей в состав Российской Империи.
Путилов прославился беспрецедентной по сложности и успеху организацией массового производства боевых кораблей во время Крымской войны. В 1854 году англо-французский флот вошел в Финский залив и стал "наводить порядок" - осадил крепости Бомасунд и Гангут, попытался захватить Кронштадт принялся обстреливать населенные пункты в Финляндии, входившей в состав Российской Империи.
Балтийский флот в основном включал парусники, проигрывавшие по скорости и маневренности пароходам. Ситуацию надо было изменить коренным образом и в кратчайшие сроки. Великому князю Константину Николаевичу, возглавлявшему Морское министерство, порекомендовали Путилова. Министр честно сказал ему, что надо построить винтовые канонерские лодки, казна пуста и отдал личные 200 тыс. рублей.
Путилов, используя метод сетевого планирования, наладил в механических мастерских Санкт-Петербурга выпуск паровых котлов, компонентов для канонерок. В 1855 году на воду было спущено 32 канонерки, усилившие защиту Кронштадта и Санкт-Петербурга. Вошедший в Финский залив англо-французский флот из 67 кораблей нарвался на них словно дворовая шпана на взвод крепких десантников и был вынужден отступить от греха подальше.
Имея такой уникальный опыт, Путилов не боялся браться за самые трудные задачи во благо государства. В 1863 году ввиду политической напряженности в Европе, грозившей вылиться в войну, требовалось экстренно наладить выпуск снарядов в России, чем и занялся Путилов.
Имея такой уникальный опыт, Путилов не боялся браться за самые трудные задачи во благо государства. В 1863 году ввиду политической напряженности в Европе, грозившей вылиться в войну, требовалось экстренно наладить выпуск снарядов в России, чем и занялся Путилов.
В Европе на тот момент повсеместно применялись снаряды из закаленного чугуна, поставляемые немецким промышленником Германом Грюзоном. Технологию их производства он хранил в тайне (Грюзон использовал быстрое охлаждение чугуна для повышения твердости, снаряды из него могли пробивать толстую броню), и России приходилось их покупать у него.
Путилов приступил к экспериментам по изготовлению снарядов, арендуя для них Сампсониевский завод и кузницу Гальванопластического заведения герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Суммарно на их переоборудование было потрачено 300 тыс. рублей собственных доходов.
Путилов приступил к экспериментам по изготовлению снарядов, арендуя для них Сампсониевский завод и кузницу Гальванопластического заведения герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Суммарно на их переоборудование было потрачено 300 тыс. рублей собственных доходов.
Его изыскания увенчались успехом: чугуннозакаленные снаряды Путилова ничуть не уступали продукции Грюзона, заодно и боеприпасам немецкого пушечного короля Альфреда Круппа.
Для выполнения военных заказов Путилов вместе с полковником Корпуса горных инженеров Павлом Обуховым и купцом Сергеем Кудрявцевым основал металлургический завод, названный впоследствии Обуховским. На нем и велся серийный выпуск снарядов.
Для выполнения военных заказов Путилов вместе с полковником Корпуса горных инженеров Павлом Обуховым и купцом Сергеем Кудрявцевым основал металлургический завод, названный впоследствии Обуховским. На нем и велся серийный выпуск снарядов.
По всей видимости, Путилов проводил детальное изучение боеприпасов Грюзона, привлекая к нему Обухова. Иной версии не предполагается: Обухов был авторитетным специалистом по металлургии, много занимаясь вопросами литья чугуна и стали и изготовления пушек. Разработать снаряды без исследования продукции Грюзона было бы невозможно.
Путилов с Обуховым сумели разгадать способ закалки чугуна, тщательно охраняемый Грюзоном, после чего внедрили его на их предприятии. В эту эпоху металлография была в зачаточном состоянии, и тем не менее они смогли решить проблему, обеспечив армию и флот снарядами в достаточных количествах.
Путилов с Обуховым сумели разгадать способ закалки чугуна, тщательно охраняемый Грюзоном, после чего внедрили его на их предприятии. В эту эпоху металлография была в зачаточном состоянии, и тем не менее они смогли решить проблему, обеспечив армию и флот снарядами в достаточных количествах.
Гений химии и пороха
Великого русского ученого Дмитрия Менделеева традиционно связывают с открытым им Периодическим законом химических элементов и массой работ в самых различных сферах – от исследований газов и растворов до воздухоплавания, кораблестроения и экономики.
Он же внес большой вклад в обратный инжиниринг в самой неожиданной для нас области – пороховом деле. Казалось бы, Менделеев и порох несовместимы. В действительности, его труд в области производства пороха прекрасно показывает масштаб его уникальной личности.
Он же внес большой вклад в обратный инжиниринг в самой неожиданной для нас области – пороховом деле. Казалось бы, Менделеев и порох несовместимы. В действительности, его труд в области производства пороха прекрасно показывает масштаб его уникальной личности.
Менделеев занялся порохом не от хорошей жизни. В 1890 году, будучи профессором Санкт-Петербургского университета, он заступился за бунтующих студентов перед министром народного просвещения Иваном Деляновым: Менделеев попробовал передать чиновнику петицию студентов, тот отказался ее принять, и в ответ ученый ушел в отставку.
Спустя пару месяцев морской министр Николай Чихачев попросил Менделеева "послужить научной постановке русского порохового дела". Тот сразу же согласился, обратив внимание Чихачева на необходимость посещения зарубежных пороховых заводов. В военном ведомстве желание Менделеева нашло понимание, и средства на командировку были быстро выделены.
Спустя пару месяцев морской министр Николай Чихачев попросил Менделеева "послужить научной постановке русского порохового дела". Тот сразу же согласился, обратив внимание Чихачева на необходимость посещения зарубежных пороховых заводов. В военном ведомстве желание Менделеева нашло понимание, и средства на командировку были быстро выделены.
Задача, поставленная перед Менделеевым, была невероятно сложна – заполучить секрет бездымного пороха, который в России вообще не производился. Претензий к дымному пороху у военных не было, заряженные им ружья и пушки исправно стреляли, хранится же он мог очень долго.
Единственный его недостаток – использование при выстрелах закрывало обзор для русских солдат и демаскировало их огонь для врагов. Во времена Бородинской битвы, когда полки маршировали стройными рядами друг другу навстречу, это было бы допустимо, в условиях войн конца 19-го века, в которых многое решали скорость и внезапность маневра, - уже нет.
Единственный его недостаток – использование при выстрелах закрывало обзор для русских солдат и демаскировало их огонь для врагов. Во времена Бородинской битвы, когда полки маршировали стройными рядами друг другу навстречу, это было бы допустимо, в условиях войн конца 19-го века, в которых многое решали скорость и внезапность маневра, - уже нет.
В 1832 году французский химик Анри Браконно синтезировал тринитрат целлюлозы или нитроклетчатку, названный его коллегой Теофилем-Жюлем Пелузом пирокслином. Он быстро разрушался при хранении и легко взрывался. В 1846-1848 годах русский химик Герман Гесс подробно изучил свойства пироксилина и выяснил, что по мощности он в разы превосходит дымный порох.
На выводы ученого военные не обратили внимания и спохватились, когда во Франции был налажен промышленный выпуск пироксилина. Там охотно продавали его в Россию, технологией же изготовления не делились. На Охтинском пороховом заводе ее секрет разгадать никак не получалось. Исходные компоненты в виде целлюлозы и азотной кислоты были известны, трудности возникли с их соотношением и иными тонкостями изготовления пироксилина.
В июне 1890 года Менделеев в сопровождении нескольких специалистов отправился в Англию. На берегах туманного Альбиона он встретился с Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром (создатели кордита), Уильямом Рамзаем и прочими известными британскими химиками. Ему позволили посетить предприятие по производству оружия и Королевский арсенал. Англичане были предельно вежливы, умалчивая только об особенностях выпуска бездымного пороха. Тем не менее поездка не прошла зря – в записной книжке Менделеева есть отметка: "Бездымный порох: пироксилин + нитроглицерин + касторовое масло; тянут, режут чешуйки и проволочные столбики. Дали образцы".
После Британии Менделеев отправился во Францию, и там удача ему улыбнулась. Военный министр Франции Луи-Шарль де Фрейсине разрешил ему посетить Центральную пороховую лабораторию, и ее директор подарил Менделееву 2 грамма бездымного пороха для "личных нужд".
После возвращения из Франции в Россию Менделеев написал отчет о поездке и приступил к изучению полученного им пороха. Имея ничтожные его количества, он сумел рассчитать соотношение между азотной кислотой и целлюлозой, очень близкое к используемому во Франции.
После возвращения из Франции в Россию Менделеев написал отчет о поездке и приступил к изучению полученного им пороха. Имея ничтожные его количества, он сумел рассчитать соотношение между азотной кислотой и целлюлозой, очень близкое к используемому во Франции.
Также Менделеев выяснил, что французы применяют смесь низко- и высоконитринированного пироксилина, для желатинизации используются эфир и спирт в соотношении 2:1, и данным порохом нельзя начинять снаряды для артиллерийских орудий большого калибра. Англичане же используют смесь пироксилина и нитроглицерина.
Менделеев варьировал состав нитрирующей смеси, состоящей из азотной и серной кислот, обрабатывал вату, пряжу, клетчатку, хлопок, бумагу и другие материалы. Он стремился получить однородный продукт и в конечном счете сделать полностью растворимую нитроклетчатку, названную им пироколлодием.
Ученым были проведены вычисления инвестиций на его производства и составлен план по его организации. Его работу высоко оценил контр-адмирал Степан Макаров (впоследствии герой русско-японской войны 1904-1905 годов), главный инспектор артиллерии морского флота.
Ученым были проведены вычисления инвестиций на его производства и составлен план по его организации. Его работу высоко оценил контр-адмирал Степан Макаров (впоследствии герой русско-японской войны 1904-1905 годов), главный инспектор артиллерии морского флота.
Напротив, комиссия при Охтинском пороховом заводе не нашла никаких преимуществ у пироколлодия перед пироксилином, который стал массово выпускаться благодаря обратному инжинирингу, проведенному Менделеевым. Пироколлодий в производство не пошел.
Скромный же американский младший лейтенант Джон Бернарду, по совместительству сотрудник военной разведки США, на основе вышедших в 1895-1896 годах двух статьях Менделеева про пироколлодий, запатентовал его и помог оборонной промышленности США наладить его выпуск. Спустя десятилетия во время Первой мировой войны Россия закупала пироколлодий в США.
Скромный же американский младший лейтенант Джон Бернарду, по совместительству сотрудник военной разведки США, на основе вышедших в 1895-1896 годах двух статьях Менделеева про пироколлодий, запатентовал его и помог оборонной промышленности США наладить его выпуск. Спустя десятилетия во время Первой мировой войны Россия закупала пироколлодий в США.
Кстати, существует легенда, что, находясь во Франции, Менделеев узнал, где находится один из пороховых заводов. Он приехал в город, в котором располагалось предприятие, и купил местные газеты – в них тогда печатали расписание пассажирских и грузовых поездов. Затем в номере гостиницы он рассчитал сколько на предприятие приходит составов с азотной кислотой и целлюлозой и вычислил соотношение между ними (правда, есть и версия, что он наблюдал за их движением с вокзала).
В жизни подобное теоретически могло произойти, только в записях Менделеева ничего про такие расчеты не упоминается, и в отчете о командировке в Англии и Францию нет ни слова.
В жизни подобное теоретически могло произойти, только в записях Менделеева ничего про такие расчеты не упоминается, и в отчете о командировке в Англии и Францию нет ни слова.
Руссо-Балт
Обратный инжиниринг сотворил российский автопром и такие слова не будут преувеличением. Не имея нынешних компьютеров, лазерных сканеров и 3D-принтеров, русские инженеры сумели разработать полноценный автомобиль, быстро ставший чрезвычайно популярным.
Строго говоря, идею создания автомобиля высказал еще русский механик Иван Кулибин, изготовивший 1791 году трехколесную механическую самокатку. Она имела трехступенчатую коробку передач, горизонтальный маховик, храповый механизм, подшипники качения и разгонялась до скорости 10 километров в час. Кулибин даже рассматривал установку на нее автономного двигателя (причем, немного-немало вечного) и, к сожалению, не успел довести задуманное до конца.
Первый же российский автомобиль построили в 1896 году отставной морской офицер Евгений Яковлев и инженер Петр Фрезе. Яковлев имел собственное предприятие, выпускавшее двигатели внутреннего сгорания, работавшие на керосине и газе, Фрезе возглавлял фабрику конских экипажей.
Сообща они создали четырехколесную коляску с двигателем мощностью 2 лошадиные силы. Продавалась она за 1,5 тыс. рублей (лошадь тогда стоила 50 рублей) – вдвое дешевле завозившихся автомобилей Benz. Россияне же упорно не хотели ее покупать, предпочитая заграничные машины.
Сообща они создали четырехколесную коляску с двигателем мощностью 2 лошадиные силы. Продавалась она за 1,5 тыс. рублей (лошадь тогда стоила 50 рублей) – вдвое дешевле завозившихся автомобилей Benz. Россияне же упорно не хотели ее покупать, предпочитая заграничные машины.
Подлинный прорыв удалось совершить Русско-Балтийскому вагонному заводу (РБВЗ) в Риге. В 1908 году по инициативе председателя правления предприятия Михаила Шидловского был организован автомобильный отдел, его руководителем был назначен инженер Иван Фрязиновский, на должность главного конструктора пригласили Жюльена Поттера, до того работавшего в бельгийской компании Fondu, производившей автомобили.
Логика Шидловского была следующая: загрузка и доходы РБВЗ сильно зависели от казенных заказов на железнодорожные вагоны, и налаживание серийного выпуска автомашин стало бы хорошим подспорьем во время спада выпуска основной продукции. Генеральный штаб был заинтересован в изготовлении автомобилей для обеспечения ими русской армии: военным было ясно, что делать ставку на лошадей бессмысленно.
Для разработки автомобиля Поттера взял за основу машины, производившиеся Fondu, и на их базе создал автомобиль "Руссо-Балт". В 1909 году был готов его опытный образец, прекрасно прошедший испытания, и его стали массово выпускать на РБВЗ (в дальнейшем появилось две модификации - С-24/35 и С-24/40).
Первая модель называлась С-24/30. Ее индекс означал: 24 – расчетная мощность в лошадиных силах, 30 – максимальная мощность. Двигатель был четырехцилиндровый с рабочим объемом 4501 кубических сантиметров.
Сходство "Руссо-Балт С-24/30" с Fondu CF 24/30 видно невооруженным глазом. Заметны общие внешние очертания: почти одинаковый капот, решетка радиатора и багажная решетка на крыше. Шасси у них вообще идентичные.
Сходство "Руссо-Балт С-24/30" с Fondu CF 24/30 видно невооруженным глазом. Заметны общие внешние очертания: почти одинаковый капот, решетка радиатора и багажная решетка на крыше. Шасси у них вообще идентичные.
"Руссо-Балт С-24/30" имел карданную передачу и задний мост, отличавшийся характерным признаком – смещенной влево главной передачей и полуосями разной длины. От моста к поперечине рамы шла реактивная штанга.
Общество настороженно отнеслось к "Руссо-Балту", и сотрудникам предприятия приходилось прикладывать максимум усилий для его продвижения, ведя активную рекламную деятельность и отправляя автомобиль на соревнования и выставки.
РБВЗ, помимо "легковушек", сделал гоночную модель "Руссо-Балт С-24/58", прозванную за удлинённую форму и зеленый цвет "Огурцом". Он разгонялся до 128 километров в час.
Общество настороженно отнеслось к "Руссо-Балту", и сотрудникам предприятия приходилось прикладывать максимум усилий для его продвижения, ведя активную рекламную деятельность и отправляя автомобиль на соревнования и выставки.
РБВЗ, помимо "легковушек", сделал гоночную модель "Руссо-Балт С-24/58", прозванную за удлинённую форму и зеленый цвет "Огурцом". Он разгонялся до 128 километров в час.
По заказу же военного ведомства инженеры РБВЗ создали грузовик "Руссо-Балт Т40/65", способный тянуть артиллерийский передок и пушку, везти 4-5 тонн груза.
Пиару "Руссо-Балта" поспособствовал гонщик и издатель журнала "Автомобиль" Андрей Нагель, принявший в 1910 году на нем участие в международном пробеге по маршруту Санкт-Петербург - Берлин - Сен-Готард - Рим - Неаполь - Берлин - Санкт-Петербург. В 1912 году в абсолютном зачете ралли Монте-Карло "Руссо-Балт", управляемый Нагелем, занял 9-е место, вызвав мировой фурор: Россию считали неспособной производить надежные машины.
Пиару "Руссо-Балта" поспособствовал гонщик и издатель журнала "Автомобиль" Андрей Нагель, принявший в 1910 году на нем участие в международном пробеге по маршруту Санкт-Петербург - Берлин - Сен-Готард - Рим - Неаполь - Берлин - Санкт-Петербург. В 1912 году в абсолютном зачете ралли Монте-Карло "Руссо-Балт", управляемый Нагелем, занял 9-е место, вызвав мировой фурор: Россию считали неспособной производить надежные машины.
Старания сотрудников РБВЗ не пропал даром - постепенно продажи стали расти, и перед Первой мировой войной реализовывалось до 145 автомобилей в год. Их живучесть поражала современников - "Руссо-Балт" выходил почти неповрежденным из всех аварий, в которые он попадал. Зарубежные марки такой стойкостью похвастаться не могли.
И до сих пор при упоминании первых русских автомобилей на ум сразу же приходит рокочущее слово - "Руссо-Балт"!
И до сих пор при упоминании первых русских автомобилей на ум сразу же приходит рокочущее слово - "Руссо-Балт"!

© 1998-2023 ФГБУ "РЕДАКЦИЯ "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ"